Открытие: 10.01.2021
Обновление: 15.11.2023
В. В.
Мусатов
Лирика Осипа
Мандельштама
![]()
фрагменты книги
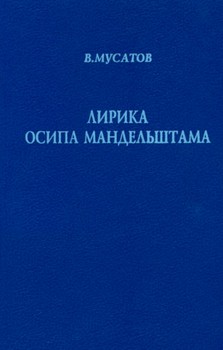
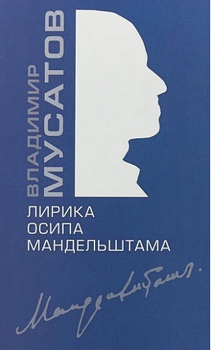
Источник
текста: Мусатов В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, Эльга-Н,
Ника-Центр, 2000.
Второе издание: Владимир Мусатов.
Лирика Осипа Мандельштама. М., Азбуковник, 2018.
В собрании также открыты другие исследования автора, связанные с Анненским.
![]()
52
В его стихах конца 1900 - начала 1910-х годов не случайно звучат мотивы 'искусственности', 'игрушечности', ненастоящести собственного поэтического мира:
53
Я вижу каменное небо
Над тусклой паутиной вод.
В тисках постылого Эреба
Душа томительно живет.Я понимаю этот ужас
И постигаю эту связь:
И небо падает, не рушась,
И море плещет, не пенясь.О, крылья, бледные химеры
На грубом золоте песка,
И паруса трилистник серый,
Распятый, как моя тоска!
Ключ к нему отыскивается в 'Трилистнике бумажном' Иннокентия Анненского, точнее, в его первой части - стихотворении 'Спутнице':
Но я тоски не поборю:
В пустыне выжженного неба
Я вижу мертвую зарю
Из незакатного Эреба.Уйдем... Мне более невмочь
Застылость этих четких линий
И этот свод картонно-синий...
Пусть будет солнце или ночь!..
У Анненского человек испытывает чувство тоскливого отвращения от аккуратно нарисованного пейзажа с его 'картонным' синим небом - бумажной имитацией жизни. У Мандельштама мир, в котором 'небо падает, не рушась, и море плещет, не пенясь', назван 'постылым Эребом'.
55
IV. Ассоциативный символизм.
Совершенно особую роль в становлении Мандельштама сыграл Иннокентий Анненский. Привлеченный Гумилевым к разработке эстетической программы 'Аполлона', он, по словам Сергея Маковского, главного редактора нового журнала, 'сделался 'ментором' вместе с Вяч. Ивановым в [...] 'Обществе ревнителей художественного слова'44. Мандельштам тянулся к нему и, рассчитывая на более тесное общение, в августе 1909 года послал Анненскому из Швейцарии открытку со своим обратным адресом - 'на случай, если он будет нужен редакции 'Аполлона' (СС-IV, 4, 16)1. Кто знает, как сложились бы их отношения, если бы не преждевременная смерть Анненского в ноябре того же года.
'Учителем своим, - писала Надежда Яковлевна, - Мандельштам считал Анненского [...]'. И, вероятно, со слов самого Мандельштама, добавила: 'Мальчиком он был у Анненского. Тот принял его очень дружественно и внимательно и посоветовал заняться переводами, чтобы получить навыки' (ВК, 72)6. В сущности, это было пожеланием освободиться от посторонних влияний через строгое различение своего и чужого. Мандельштам понял совет и в брошюре 'О природе слова' написал о своем учителе так: 'Неспособность Анненского служить каким-то бы ни было влияниям, быть посредником, переводчиком, прямо поразительна. Оригинальнейшей хваткой он когтил чужое и еще в воздухе, на большой высоте, надменно выпускал из когтей добычу, позволяя ей упасть самой' (СС-IV, 1, 225). А в 'Письме о русской поэзии' уточнил: '[...] Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органический поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать' (СС-IV, 2, 239). Это был отчет покойному учителю в том, что его совет не только услышан, но и исполнен.
Позиция Анненского сближалась с идеями Вячеслава Иванова в принципиальном убеждении, что новая поэзия должна стать мифотворческой. В статье 'Античный миф в современной французской поэзии' (1908) автор 'Кипарисового ларца' писал, что 'даже самые энергичные искатели новых начал в поэзии не могли и все еще не могут уйти от бессознательного пользования античностью, являясь невольными классиками'45. Как и Вячеслав Иванов, он полагал, что искусство бу-
56
дущего возникнет в результате синтеза эллинского и славянского начал.
Близость эта была видна им обоим, и Анненский в письме к Вячеславу Иванову не случайно говорил о 'свободной дифференциации [...] волнующей нас обоих Мысли' (КО, 494)46. Дифференциация заключалась в том, что мифотворчество у автора книги 'По звездам' было, как я сказал, религиозно-философской утопией ('хороводом'), а для Анненского оно означало прежде всего вопрос о языке современной поэзии. Это выявилось сразу - начиная со статьи Анненского 'О современном лиризме', носившей программный характер и представлявшей собой едва ли не ревизию всего, что было сделано русскими символистами в области поэтического языка. Значительная часть статьи была посвящена поэзии Вячеслава Иванова.
Анненский писал о том, что мифотворчество Вячеслава Иванова есть стихотворное переложение античных мифов, часто малоизвестных и ничего не говорящих современному человеку. Поэтому для понимания его 'высокоценных пьес', воспринимаемых читателем как 'криптограммы', требуется специальный комментарий. А между тем до древнего грека миф, воплощенный в поэтическом слове, доходил не столько через понимание, сколько через внушение. В неоконченной статье 'Что такое поэзия?' Анненский так пояснял свою мысль: '[...] И каталог кораблей был настоящей поэзией, пока он внушал. Имена навархов, плывших под Илион, теперь уже ничего не говорящие, самые звуки этих имен, навсегда умолкшие и погибшие, в торжественном кадансе строк, тоже более для нас не понятном, влекли за собою в воспоминаниях древнего Эллина живые цепи цветущих легенд, которые в наши дни стали поблекшим достоянием синих словарей, напечатанных в Лейпциге' (КО, 204).
Если у Вячеслава Иванова филология стремилась перерасти в жизнетворческую утопию, у Анненского филология перерастала в конкретную поэтическую практику, в которой слово понималось как 'символ психического акта' и обладало способностью производить эффект 'поэтического гипноза' (КО, 202). Анненский упрекал Вячеслава Иванова в том, что он 'не создает, как Стефан Малларме, особого синтаксиса', и поэтому его стихи терзают ухо 'синтаксисом Кирпичникова', автора очень скучных писаний по истории литературы (КО, 332-333).
57
'А между тем, - утверждал Анненский, - миф тем-то ведь и велик, что он всегда общенароден. В нем не должно и не может быть темнот. Миф - это дитя солнца, это пестрый мячик детей, играющих на лугу. И мне до горечи обидно, при чтении пьесы, за недоступность так заманчиво пляшущих предо мною хореев и за тайнопись их следов на арене, впитавшей столько благородного пота' (КО, 333).
В письме к М. Волошину Анненский иронически восклицал: 'Что сделал с русской публикой один Вячеслав Иванович?.. Насмерть напугал все Замоскворечье... Пуще Артюра Рембо. Мы-то его понимаем, нам-то хорошо и не боязно, даже занятно... славно так. А сырой-то женщине каково?' (КО, 486). Смысл его упреков сводился к неприятию кружковой поэзии, рассчитанной на цеховое, чисто филологическое понимание, что само по себе отменяло всякую мечту о 'Мифотворчестве', 'соборности', 'вселенскости'.
За этим спором скрывалось глубочайшее несовпадение в отношении к задачам и природе поэтического слова.
Вячеслав Иванов был убежден в том, что подлинно символическая поэзия воспринимает все конкретное и частное в аспекте вечного, архетипического, мифологического. О. Дешарт прекрасно сформулировала это свойство лирики Вячеслава Иванова, назвав ее 'точным описанием объективной, высшей реальности [...] в аспекте особого, своеобразного опыта и неповторимого личного переживания', когда поэт 'в едином и через единственное открывает всеобщее и вселенское'47. Так, например, в стихах Вячеслава Иванова спутница его жизни Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал превращалась в Менаду - безумствующую спутницу бога Диониса:
Бурно ринулась Менада,
Словно лань,
Словно лань,
С сердцем, вспугнутым из персей,
Словно лань,
Словно лань,
С сердцем, бьющимся, как сокол
Во плену,
Во плену, -
С сердцем, яростным, как солнце
Поутру,
Поутру, -
58
С сердцем, жертвенным, как солнце
Ввечеру,
Ввечеру...
Здесь реальная Зиновьева-Аннибал являет свою 'реальнейшую' дионисийскую сущность, архетипический аспект своего духовного склада - готовность к абсолютно жертвенной самоотдаче. Солнце-сердце всходит 'поутру', чтобы согреть и осветить мир, и, исчерпав себя, заходйт 'ввечеру', чтобы снова родиться и снова умереть на исходе следующего дня. Стихи о Менаде, с одной стороны, подтверждали замечание Ф.Ф. Зелинского о том, что в 'символ растерзанного и возрожденного Диониса укладывается добрая часть поэзии В. Иванова'48. Но, с другой стороны, у них есть реальная биографическая подоплека. Однажды ночью в Риме на развалинах Колизея Вячеслав Иванов рассказал Лидии Дмитриевне о своем понимании Диониса и раскрыл перед ней 'мифологический принцип ее существа'49.
Позднее в 'Дионисе и прадионисийстве' Вячеслав Иванов напишет, что изначальный миф в его словесном выражении есть 'древнейшее узрение в форме синтетического суждения, где подлежащим служит имя божества или анимистически оживленной и воспринимаемой как daimon конкретности чувственного мира, сказуемым же глагол, изображающий действие или состояние, этому демоническому существу приписанное'50. Поэт-мифотворец должен перевести 'конкретную чувственность мира' в подлежащее и, приписав ему 'действие или состояние', превратить его в 'даймон'. Вот еще один пример такой метаморфозы:
Вчера во мгле неслись Титаны
На приступ молнийных бойниц
И широко сшибались станы
Раскатом громких колесниц.
Картина ночной грозы превращена в мифическую борьбу Титанов с громовержцем Зевсом: Титаны- мчащиеся по небу тучи; сшибка военных колесниц - раскаты грома; бойницы, сквозь которые Зевс мечет свои перуны, - сполохи молний в ночном небе.
Метод 'тайновидения', утверждаемый 'мэтром' и в теории, и в собственной практике, Мандельштам пытался использовать в уже цитированном выше стихотворении 'Вечер
59
нежный, сумрак важный...', где обычная морская прогулка превращалась в дионисийское действо. Но лирика Анненского открывала перед ним возможность иного пути. Между тем, глубоко задетый критикой Анненского, Вячеслав Иванов 14 октября 1909 г. написал, а 16-го отправил по почте Анненскому следующее стихотворение:
'Зачем у кельи ты подслушал,
Как сирый молится поэт,
И святотатственно запрет
Стыдливой пустыни нарушил?Не ты ль меж нас молился вслух,
И лик живописал, и славил
Святыню имени? Иль правил
Тобой, послушным, некий дух?..''Молчи! Я есмь; и есть - иной.
Он пел; узнал я гимн заветный,
Сам - безглагольный, безответный -
Таясь во храмине земной.Тот миру дан; я - сокровен...
Ты ж, обнажитель беспощадный,
В толпе глухих душою хладной -
Будь, слышащий, благословен!'51
С одной стороны, Анненский упрекался в нарушении границ эзотерической поэзии, недоступной 'толпе глухих', то есть непосвященных, в 'святотатственном' нарушении запрета и потому именовался 'обнажителем беспощадным'. С другой - признавался 'слышащим', то есть посвященным. Упрек в непонимании и кощунстве соседствовал с признанием духовного родства. Всю эту сложную смысловую гамму стихотворения Анненский сразу же понял и оценил.
В ответном письме к Вячеславу Иванову он писал: 'Я только что получил Ваше превосходное стихотворение, которое я воспринимаю во всей цельности его сложного и покоряющего лиризма. Заглушаю в душе лирическое желание ответить - именно потому, что боюсь нарушить гармонию Вашей концепции и красоту мысли - такой яркой и глубинно-ласкающей, что было бы стыдно [...] говорить о себе в терминах, мистически связанных с 'Тем - безглагольным,
60
безответным' [...] О чем спорить? Будто мы пришли из разных миров? Будто в нас не одна душа - беглая гостья; душа, случайно нас озарившая, не наша, но Единая и Вечная и тем безнадежней любимая?' (КО, 493-494).
И все же Анненскому было о чем спорить, и даже более того, 'лирическое желание' ответить в нем победило. Одно из последних его стихотворений, названное 'Поэту', судя по всему, было адресовано Вячеславу Великолепному:
В раздельной четкости лучей
И в чадной слитности видений
Всегда над нами - власть вещей
С ее триадой измерений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Та власть маяк, зовет она,
В ней сочетались Бог и тленность,
И перед нею так бледна
Вещей в искусстве прикровенность.Нет, не уйти от власти их
За волшебством воздушных пятен,
Не глубиною манит стих,
Он лишь как ребус непонятен.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Люби раздельность и лучи
В рожденном ими аромате.
Ты чаши яркие точи
Для целокупных восприятий.
Стихи, непонятные, 'как ребус', явно перекликаются с упреком в 'недоступности', прозвучавшим в статье 'О современном лиризме', а 'вещей в искусстве прикровенность' заставляет вспомнить один из излюбленных тезисов Вячеслава Иванова, согласно которому настоящий символизм всегда изображает 'прикровенный' и 'облаченный' лик мира. Поэзии 'тайновидения', основанной на сверхчувственной интуиции, Анненский противопоставил лирику, построенную на 'целокупных восприятиях', то есть на реальном психологическом опыте.
Анненский не случайно упомянул в письме к Волошину о 'сырой женщине', ибо с его точки зрения поэзия должна осваивать ту повседневную жизнь, которой живет масса: '...Самое страшное и властное слово, т.е. самое загадочное - может быть именно слово - будничное' (КО, 486). Поэтому
61
и символ, в отличие от Вячеслава Иванова, понимался им как выражение 'той формы душевной жизни, которая более всего роднит людей между собою, входя в психологию толпы с таким же правом, как в индивидуальную психологию' (КО, 206).
Иными словами, если мифотворчество Вячеслава Иванова связывалось с будущим жизнеустройством единого человечества, что, по выражению Андрея Белого, было 'спекуляцией рассудочной мысли над тайнами групповых вакханалий'52, то у Анненского миф понимался как выражение тех слоев коллективного психического сознания, которые позднее К.Г. Юнг назовет 'коллективным бессознательным'.
Вячеслав Иванов противопоставлял мифическое всему случайному и внешне обусловленному, тогда как для Анненского повседневный опыт личности, выражаемый 'будничным' словом, связывался со сверхиндивидуальным человеческим 'я', 'истинным' и 'неразложимым' (КО, 332). Вот почему неверно полагать, будто 'функция символа' носила у него исключительно 'субъективно-психологический' характер, и потому он является поэтом-импрессионистом53.
Как известно, с посмертным выходом в свет 'Кипарисового ларца' влияние Анненского на молодую поэзию, группировавшуюся вокруг 'Аполлона', еще более усилилось. Анна Ахматова лаконично выразилась по поводу стихов Анненского так: 'Они открыли мне новую гармонию'54. Гумилев назвал их 'катехизисом современной чувствительности'55. Вячеслав Иванов был обеспокоен ростом этого влияния, иначе не стал бы продолжать спор, в сущности, над свежей могилой - в статье-некрологе, опубликованной в 'Аполлоне' (1910, ? 4), значительная часть которой была посвящена памяти Анненского. Он выступил против лирического метода Анненского, носившего, с его точки зрения, субъективно-психологический характер.
Определяя этот метод формулой 'ассоциативный символизм', Вячеслав Иванов
раскрывал ее так: 'Поэт-символист
этого типа берет исходной точкой в процессе своего творчества нечто
физически или психологически конкретное, часто
даже вовсе не называя его, изображает ряд ассоциаций,
имеющих с ним такую связь, обнаружение которой помогает
всесторонне и ярко осознать душевный смысл явления, ставшего для поэта
переживанием, и иногда впервые назвать
62
его - прежде обычным и пустым, ныне же многозначительным именем'56.
Годом позже, выступая в 'Обществе ревнителей художественного слова', он еще более конкретно разъяснил, почему не принимает 'ассоциативный символизм': 'Символизм эволюционировал от множественной формулы Mallarme к высшей syntesis mes correspondances, которые Бодлер положил в основе восприятия. Внутреннее единство творчества сверхлично, поэтому внутренний канон требует победы над личностью, жертвы своим лицом, которая придает творчеству grand style [...] Победа над личностью как конечное увенчание в развитии её предполагает высшую унификацию и укрепление духа [...]'57. Иными словами, бодлеровский метод 'соответствий', развитый Малларме и продолженный Анненским, есть выражение уединенного творческого сознания, которое ничего общего не имеет с подлинным символизмом.
Имя Стефана Малларме в этой полемике возникло закономерно, как закономерно Мандельштам поставил его и Анненского в ряд 'великих поэтов'. Дело в том, что именно Малларме поставил задачей поиск таких средств поэтического выражения, которые могли бы стать 'самообъективацией идеи'. Он мечтал о создании 'чистого произведения искусства', в котором исчезла бы личность творца и в символической форме предстала подлинная сущность мира58. Это была мечта о поэзии, не замутненной никакой субъективностью, так что Вячеслав Иванов напрасно приписывал французскому символисту прямо противоположную тенденцию.
Но сближение имен Малларме и Анненского было совершенно закономерным. Поэтическая эстетика Малларме основывалась прежде всего на принципе суггестии, т.е. на отказе от прямого называния предметной реальности и поиске выражения ее внутренней глубинной сущности путем внушения. Работа Малларме по развитию ассоциативных возможностей поэтического языка, назначение которого - выражать мир в его наиболее устойчивых, вневременных связях, заставляет вспомнить аналогичную работу в области психологии, проделанную позже К.Г. Юнгом, полагавшим, что 'архетипическое содержание выражает себя прежде всего посредством метафор'59, поскольку между микро- и макрокосмом 'царит соответствие, correspondantia'60.
Однако у Анненского, кроме Малларме, была и другая опора в его теоретических поисках и поэтической практике -
63
лингвистическая теория А. Потебни (кстати, тесно связанная с психологией).
Хорошо известно, что А. Потебня - вслед за В. Гумбольдтом - полагал, что слово не является передатчиком мысли от человека к человеку, а 'возбуждает в другом его собственные мысли'. Слово, утверждал он, прежде всего 'объективирует мысль', создавая ее в качестве объекта для восприятия другого: 'Оно устанавливает между замкнутыми в себе личностями связь, не уравнивая их содержания, а, так сказать, настраивая их на гармонический лад'61. Анненский, безусловно, знакомый с лингвистическими идеями А. Потебни, в 1904 году писал А.Н. Веселовскому о том, что слово есть 'возбудитель, а не только выразитель мысли' (КО, 592). Точное филологическое понимание коммуникативной природы слова - вот что Анненский клал в основу собственной творческой практики и что заставляло его сопротивляться религиозно-философским спекуляциям Вячеслава Иванова.
Анненский настаивал на том, что стихи должны стать 'возбуждением в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний 'восполнить недосказанность пьесы' (КО, 102). Развивая ассоциативные возможности поэтического слова (а здесь для него во многом решающим был опыт Тютчева и Фета), Анненский апеллировал к читательской способности 'вторичного синтеза'. Говоря по-иному, стихотворение возбуждало в читателе аналогичное собственное переживание, и, таким образом, поэзия открывала надличное поле сознания, в котором происходила встреча индивидуумов изнутри их общего опыта.
Последнее хорошо продемонстрировал в 1923 году А. Гизетти в разборе стихотворения Анненского 'То и это' из 'Трйлистника кошмарного':
Ночь не тает. Ночь как камень.
Плача тает только лед,
И струит по телу пламень
Свой причудливый полет.Но лопочут, даром тая,
Ледышки на голове;
Не запомнить им, считая,
Что подушек только две.
64
И что надо лечь в угарный,
В голубой туман костра,
Если тошен луч фонарный
На скользоте топора.
'Здесь психика больного, - писал критик, - слита воедино с воображением краткого жизнесознания снежинок, которым после топора (колют лед во дворе под фонарем) надо таять на голове больного ('угарный, голубой туман костра')62. Дешифровка текста в данном случае возможна только при актуализации встречного и аналогичного опыта. Читатель должен был вспомнить, что такое ночной кошмар температурящего больного, как колют лед топором во дворе, чтобы остудить жар 'ледышками', положенными на лоб. И тогда, говоря словами А. Потебни, установится связь 'между замкнутыми в себе личностями'63, а все 'случайное и внешнеобусловленное' (Вяч. Иванов) превратится в объективное и общезначимое.
Анненский создавал поэтическую систему, в центре которой стояло 'я', отказывающееся от себя как от привилегированного центра переживания мира и становящееся в ряд с другими, осознавая себя лишь как 'одного из них' (КО, 174). Вот почему ни один из поэтов XX столетия, столкнувшись с опытом массовой жизни, не смог пройти мимо опыта Анненского. И вот почему Мандельштам в ноябре 1911 года определил автора 'Кипарисового ларца' как 'поэта отливов дионисийского чувства'64, видя именно в его лирике реальное психологическое выражение того, что на языке Вячеслава Иванова именовалось 'соборностью'.
Самому Мандельштаму, в первую очередь, было важно открытие в индивидуальном творческом опыте универсального связующего начала, и 'метод Анненского - Малларме', или 'ассоциативный символизм', оказал на него огромное влияние. Плоды его хорошо видны в стихах начала 10-х годов - особенно в стихотворении с тютчевским названием 'Silentium':
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
64И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
В противовес тютчевскому тезису о ложности 'изреченной мысли' здесь утверждается 'первоначальная немота' - как объективная возможность абсолютной творческой 'изреченности'. Центральный мотив всего стихотворения - дословесная формотворческая сила, еще замкнутая 'устами', но уже готовая выйти наружу, как Афродита из пены, и прозвучать 'кристаллической нотой', чистотой и объективностью мифа.
В этом можно увидеть полемику с романтической категорией 'невыразимого', но куда важнее, что мандельштамовское 'Silentium' напоминает об 'орфической космогонии', согласно которой бытию предшествовало 'неизреченное' начало, о котором невозможно ничего сказать и потому следует молчать65. Позднее в 'Восьмистишиях' появится похожий образ: 'И там, где сцепились бирюльки, // Ребенок молчанье хранит'. И наконец, можно и нужно видеть здесь объективную параллель с творческими поисками Стефана Малларме, для которого лежащая в основе всех вещей надличная Идея полнее всего может быть выражена лишь молчанием. Вербальное воплощение этого 'молчания' возможно лишь в том случае, если поэзия уйдет от всякой предметности и станет оперировать не словами, а их отношениями66.
У Мандельштама образ молчания создается ассоциативными ходами: морская пена оказывается сиренью в сосуде; сосуд напоминает об амфоре, а в сочетании с пеной это дает мотив 'пеннорожденной' Афродиты; от Афродиты недалеко до 'устыдившихся' друг друга сердец. Так возникает мысль (тоже 'орфическая' по своему происхождению) о том, что в основе бытия лежит связующая сила Эроса, 'первооснова жизни'.
65
Если вспомнить о желании Мандельштама дисциплинировать
'жалобные признания' суровостью ямба, то нетрудно
увидеть, что в 'Silentium' четырехстопный ямб интонационно и ритмически
'одичен' - вполне в духе Тютчева (при
всей полемике с тютчевским одноименным стихотворением),
а 'психологизм' преобразован в 'логизм' общей идеи стихотворения. Здесь
уже угадывается Мандельштам периода
'Камня' - 'кристаллическая нота' заставляет вспомнить
архитектурные стихи начала 10-х годов и декларацию 'Утро
акмеизма'.
Парадоксально, но, пользуясь методом 'Анненского - Малларме', Мандельштам воплощал одну из любимых идей Вячеслава Иванова, учившего, что мир, взятый в аспекте вечного и архетипического, должен быть не только принят художником, но и восславлен как безусловно положительное начало. Позднее 'мэтр' скажет: 'Поэт и есть тот, кто славословит / не Творцу только, а всем вещам', - и назовет себя 'славословом', обыгрывая семантику имени 'Вячеслав'67.
'Славословием' объяснялся и торжественный, одический строй его стихов, и вкрапление в текст латинских слов и выражений, и активное использование славянизмов и архаизмов, давшее повод одному из современников иронически назвать его 'двойником самого господина Тредьяковского'68. В отличие от Бальмонта или Блока, поэзия Вячеслава Иванова была не музыкальна, но риторична, оперируя не боковыми, колеблющимися смыслами слов, но их корневыми, прямыми значениями. 'Существительные, - хорошо заметил по этому поводу С. Аверинцев, - призваны явить читателю свою 'существенность', свою, так сказать, 'существительность', неподвижную, как идеи Платона, неизменную, как 'кормчие звезды'69.
В мандельштамовском 'Silentium' торжествует пафос приятия мира, воспетого и утвержденного в слове, а риторичность так же связана со славословием в духе Вячеслава Иванова, как напряженная ассоциативность - с лирическим методом Иннокентия Анненского. Это свидетельствовало о принципиальной установке на синтетизм, о которой Мандельштам лаконично скажет: 'Я учусь у всех [...]' (ВК, 72). Преодолевая теоретический догматизм первого и одновременно впитывая все, что было для него необходимо из поэтической практики 'мэтра', Мандельштам в своем развитии
67
двигался в русле 'ассоциативного символизма' Анненского - Малларме.
Однако на этом пути ему не хватало некоей общей идеи, философско-художественного концепта, подобного 'музыке' - универсальной категории, лежавшей в основе всей символистской эстетики. Д.Е. Максимов полагал, что в творчестве акмеистов вообще не было 'интеграторов символистского типа', и поэтому у Мандельштама они 'во многих случаях заменялись иррациональными сцеплениями'. С его точки зрения, здесь происходило безусловно положительное освобождение поэзии 'от деспотизма сомнительных общих мест', но, к сожалению, ценой 'дезинтегрирования' и 'спада идейной напряженности'70. Он был неправ по меньшей мере относительно Мандельштама, который в 'Silentium' попытался преобразовать 'музыку' в архитектуру мотивом 'кристаллической ноты'. Следующим шагом на этом пути стало стихотворение 1911 года 'Раковина'.
Оно начинается с того, что обособленное и одинокое творческое 'я' сравнивается с 'раковиной без жемчужин', выброшенной на морской берег:
Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.
Раковина - образ, почерпнутый из главы 'О поэтах' в
книге 'Так говорил Заратустра' Ф. Ницше: 'Ах, как я устал от
поэтов! [...] Я устал от поэтов старых и новых: на поверхности
для меня все они, как мелкие моря. Они недостаточно проникали мыслью в
глубину; и потому чувство их не опускалось до
оснований. [...] Несомненно, можно найти жемчужины в них:
но тем более сами они похожи на раковины. И вместо души я
часто находил у них соленую слизь'71. Но возможно, что реминисценция из
Ницше пришла к Мандельштаму через Гумилева, в поэме которого 'Открытие
Америки', напечатанной в ? 12 'Аполлона' за 1910 год, прозвучал тот же
мотив:
'Раковина я, но без жемчужин'72.
Мандельштамовская раковина функционально соответствовала тростинке, выросшей из омута, но если омут в контексте его биографической коллизии был расшифрован как 'иудейский', то пучина, породившая раковину, оказывалась
68
мировой. Биографическая подоплека этого образа говорила все о той же неукорененности, 'ненужности' в европейской культуре, символизированной в образе моря. При этом раковина продолжала мотив 'кристаллической ноты' из 'Silentium', выступал как образ одновременно архитектурный и музыкальный в силу своей 'акустичности'. Ненужность преодолевается тем, что в ее хрупких пропорциях таится возможность резонанса, то есть связи с огромным ночным морем:
Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;И хрупкой раковины стены, -
Как нежилого сердца дом, -
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем.
Если до сих пор на одном полюсе семантического строя мандельштамовских стихов оказывалась холодная, жестокая, хотя и притягательная гармония астрального неба ('гармония высоких числ'), а на другом - трепетная дрожь одинокого существования, то здесь торжествует идея связи, глубинного родства личности и мира. Здесь микрокосм человеческого 'я' ощущает свое внутреннее родство с макрокосмом мироздания через ассоциативные сцепления ('correspondances'). Но - что не менее важно - в основе всего лежит точная психологическая посылка: человек поднимает на берегу моря пустую раковину, прикладывает ее к уху и в ее гулкой пустоте слышит 'шепоты пены, тумана, ветра и дождя'.
'Логизм вселенской идеи' не противоречил 'психологизму' личности, потому что ассоциативный метод 'Анненского - Малларме' работал на создание концепции 'всеединства', разработанной Владимиром Соловьевым и активно подхваченной Вячеславом Ивановым еще в юношеские годы. Не случайно позднее Мандельштам заметит: 'Психологизм Анненского - не каприз и не мерцание изощренной впечатлительности, а настоящая твердая конструкция', - и даже скажет о том, что он 'ввел в лирику психологический конструктивизм' (СС-IV, 2, 293).
В сущности, 'Раковина' и была наглядным примером такого 'конструктивизма'. Не удивительно, что Мандельштам
69
придавал этому стихотворению принципиальное значение, анонсировав в конце 1912 года в 'Гиперборее' книгу своих стихов под тем же названием - 'Раковина'. Однако образу 'раковины' суждено было сыграть иную роль. Он оказался итогом символистского периода его творчества и обозначил один из центральных пунктов полемики с Вячеславом Ивановым в момент формирования платформы акмеизма.
В 1912 году в статье 'Мысли о символизме' Вячеслав Иванов, пытаясь заново обосновать идею подлинного символизма, писал: '[...] Нас, символистов, нет, - если нет слушателей символистов. Ибо символизм не есть творческое действие только, но и творческое взаимодействие. [...] Истинному символизму важна не сила звука, но мощь резонанса'73. Мандельштам в статье 'О собеседнике', напечатанной в начале 1913 года и носившей первоначально полемическое по отношению к Вячеславу Иванову заглавие 'О моменте общения в поэтическом творчестве', возражал своему недавнему учителю так:
'Символизм [...] обратил свое внимание исключительно на акустику. Он бросает звук в архитектуру души и, со свойственной ему самовлюбленностью, следит за блужданиями его под сводами чужой психики. Он учитывает звуковое приращение, происходящее от хорошей акустики [...] В этом отношении символизм напоминает 'Prestre Martin' средневековой французской пословицы, который сам служит мессу и слушает ее. Символический поэт не только музыкант, он же и Страдивариус, великий мастер по фабрикации скрипок, озабоченный вычислением пропорций 'коробки' - психики слушателя [...] Но, господа, ведь музыкальная пьеса существует независимо от того, кто ее исполняет, в каком зале и на какой скрипке! Почему же поэт должен быть столь предусмотрителен и заботлив? Где, наконец, тот поставщик живых скрипок для надобностей поэта - слушателей, чья психика равноценна 'раковине' работы Страдивариуса?'74.
Однако в 'Раковине' Мандельштам еще совсем недавно сам выступал в роли мастера, озабоченного тем, чтобы пропорции 'коробки' ('раковины') резонировали в унисон с акустикой 'ночи', давая эффект 'звукового приращения'. Раковина, выброшенная на берег, пассивно ждет, когда ее наполнит собою 'огромный колокол зыбей', и оказывается в итоге зависимой от внешнего мира. Хрупкие пропорции ра-
70
ковины созданы 'властью вещей с ее триадой измерений' (Анненский), и эта власть обрекает ее на повторение звуков огромного чужого мира. Связь с объективной реальностью оборачивалась зависимостью и утратой личного волевого начала. Вот почему в статье 'О собеседнике' Мандельштам стремился подчеркнуть независимый характер творческого акта, а в одном из стихотворений 1911 года продекларировал это горделивым утверждением:
Душу от внешних условий
Освободить я умею.
'Раковина' обозначила предел развития 'доакмеистического' Мандельштама.
Свою первую книгу стихов он назвал
'Камень', что определялось уже иной мотивной структурой.
С.П. Каблуков, держа в руках 'Камень' в декабре 1913 года,
сетовал, что автор, 'отчасти по мнительности, отчасти по капризу', не
включил в книгу много 'превосходных стихотворений' (К, 252). Но дело
было не в мнительности или капризе, а в строгом отборе на основе
продуманной поэтической
идеи. Все, что могло ее как-то осложнить, и в особенности
любые черты 'психологизма', противоречащие 'логизму'
общей творческой позиции, осталось за бортом. Так что даже
очень внимательные современники не заметили духовной
коллизии, предшествовавшей 'Камню'.
Что касается соратников по акмеизму, то им было важно в авторе 'Камня' одно - он является поэтом, перешедшим 'из символического лагеря в акмеистический'75.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 томах / Составители П. Нерлер, А. Никитаев. Тт. 1-4. М., 1993-1997. При цитировании этого издания в скобках указывается: СС-IV, далее следуют арабские цифры, обозначающие том и страницу. Кроме того, приняты следующие сокращения: СС-II, с указанием тома и страницы в скобках - Мандельштам Осип. Сочинения в 2 томах / Составл. С.С. Аверинцева и П.М. Нерлера. Подг. текста и коммент. А.Д. Михайлова и П.М. Нерлера. Вступ. статья С.С. Аверинцева. М., 1990;
71
ПСС с указанием тома и страницы - Мандельштам О.
Полное собрание стихотворений / Составл., подг. текста и
примеч. А.Г. Меца. СПб, 1995; ОМ с указанием тома и страницы - Мандельштам О. Стихотворения / Составл., подг.
текста и примеч. Н.И. Харджиева. (Большая серия
'Библиотека поэта'. Второе изд.) Л., 1979.
<...>
6. Мандельштам Надежда.
Вторая книга / Подг. текста, предисл.,
примеч. М.К. Поливанова. М., 1990. В тексте
- ВК.
<...>
73
44. Маковский Сергей. Из воспоминаний об Иннокентии Анненском //
Воспоминания о серебряном веке. С. 109.
45. Анненский И.
Античный миф в современной
французской поэзии // Гермес. 1908. ? 7 (13). С. 177.
PDF
46. Анненский Иннокентий. Книги отражений / Изд.
подг. Н.Т. Ашимбаева, И.И. Подольская, А.В. Федоров. М.,
1979. Далее - КО.
47. Иванов Вячеслав. Собрание сочинений / Под ред. Д.В. Иванова и
О. Дешарт. Брюссель. 1979. Т. 1. С. 32.
48. Зелинский Ф.Ф. Вячеслав Иванов // Русская литература XX века
/ Под ред. проф. С.А. Венгерова. Ч. II. Т. III. Кн.8.
М., 1916. С. 105.
49. Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Брюссель.
1979. Т. 1. С. 17.
50. Иванов Вячеслав. Дионис и прадионисийство. СПб.
1994. С. 269.
51. Стихотворение вместе с запиской, в которой Вячеслав
Иванов извинялся за невозможность присутствовать на очередном заседании
Поэтической Академии, сохранилось в
фонде Вяч. Иванова в РГАЛИ (Ф. 6. On. 1. ? 328). Вошло в
'Cor ardens'.
74
52. Белый Андрей. Вячеслав Иванов // Русская литература XX века /
Под ред. проф. С.А. Венгерова. Ч. II. Т. III. Кн. 8.
М., 1916. С. 140.
53. Корецкая И.В.
Вячеслав Иванов и Иннокентий Анненский //
Контекст. Историко-теоретические исследования.
М., 1989. С. 64. PDF
54. Цит. по кн.: Жирмунский В.М. Творчество Анны
Ахматовой. Л., 1973. С. 71.
55. Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / Составл.,
вступ. ст. Г.М. Фридлендера. Коммент., подг. текста Р.Д. Тименчика. М.,
1990. С. 100.
56. Иванов Вяч. О поэзии И.Ф. Анненского // Аполлон.
1910. ?4. С. 16.
57. Чудовский В. Общество ревнителей художественного слова //
Русская художественная летопись. 1911. ? 2.
С. 320.
58. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм / Пер.
с польского. М., 1978. С. 64-66.
59. Юнг Карл Густав. Душа и миф. Шесть архетипов / Пер.
с англ. Киев. 1996. С. 92.
60. Юнг Карл Густав. Дух Меркурия / Пер. с нем. М., 1996.
С. 193.
61. Потебня А.А. Из записок по теории словесности.
Харьков. 1905. С. 25.
62. Гизетти А. Поэт мировой дисгармонии
(Инн. Фед. Анненский) // Петербург. Пг. 1923. С. 63.
63. Потебня А.А. Указ. соч. С. 27.
64. Чудовский В. Указ. соч. С. 320.
65. Фрагменты ранних греческих философов. 4.1. От эпических
теокосмогоний до возникновения атомистики / Изд.
подг. А.В. Лебедев. М., 1989. С. 61.
66. Яроциньский С. Указ. соч. С. 64.
67. Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым /
Составл. и подг. текстов В.А. Дымшица и К.Д. Лаппо-Данилевского. СПб.
1995. С. 53.
68. Ашешов Ник. Вячеслав Иванов. Кормчие звезды.
Книга лирики. СПб. 1903 // Образование. 1903. ? 12. С. 118.
69. Аверинцев С. Вячеслав Иванов // Вячеслав Иванов.
Стихотворения и поэмы / Составл., подг. текста и примеч. Р.Е. Помирчего. Л., 1978. С. 31.
70. Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981.
С. 106.
75
71. Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра. СПб, 1913.
С. 154.
72. Taranovsky K. Essays on MandePstam. Harvard Slavic
Studes, 1976. P. 142.
73. Иванов Вячеслав. Мысли о символизме // Труды и
дни. 1912. ? 1. С. 8-9.
74. Мандельштам Осип. О собеседнике // Аполлон.
1913. ? 2. С. 49-50. В СС-II и СС-IV текст статьи воспроизведен не по
журналу, а по сборнику статей 'О поэзии' (Л.,
1928), где он был отредактирован Мандельштамом с учетом
иной историко-литературной ситуации.
75. Гумилев Н.С. Указ. соч. С. 174.
![]() Из
Главы второй
"'Камень'. 1913-1915".
Из
Главы второй
"'Камень'. 1913-1915".
76
После смерти Иннокентия Анненского молодые поэты, группировавшиеся вокруг 'Аполлона', утратили духовного лидера. А так как влияние Вячеслава Иванова на поэтическую молодежь Петербурга ослабло, то в октябре 1911 года был создан Цех поэтов, организационно оформивший назревшее недовольство Поэтической Академией. Вл. Пяст вспоминал, как на одном из первых заседаний Цеха был задан сонет на тему 'Цех ест Академию' - в виде акростиха1.
79
На самом деле, акмеисты претендовали именно на новое мировоззрение, а следовательно, - на смену культурной традиции. Гумилев, заявивший, что 'акмеизм отдает предпочтение романскому духу перед германским'13, следовал за Иннокентием Анненским, полагавшим, что русской поэзии всегда недоставало 'стильной латинской культурности' (КО, 292).
Но если Анненский имел
глубоко продуманную концепцию развития русской поэзии, то акмеистические
манифесты так и остались кружковыми декларациями. Вести спор с
символистами на равных, как это делал автор 'Кипарисового
ларца', ни Гумилеву, ни Городецкому было не под силу. И все же в одном
Мандельштам был прав - спор акмеизма с символизмом смещался из
мировоззренческой сферы в плоскость 'словесных' задач, конкретной
поэтической практики. Именно здесь символистам было нанесено поражение.
81
Блок, присутствовавший на первом заседании Цеха поэтов, увидел в молодых поэтах психологически понятный бунт против 'миражей' Вячеслава Иванова. Но претензии на новое мировоззрение он воспринял резко отрицательно: 'В акмеизме будто есть 'новое мироощущение' - лопочет Городецкий... Я говорю: зачем хотите 'называться', ничем вы не отличаетесь от нас' (Блок, VII, 238). К тому времени Блок испытал жесточайшее разочарование в символистских теориях и пришел к вполне 'акмеистической' мысли о том, что творчество прежде всего есть дисциплина формы, 'дух, оформливающий хаос' (Блок, VIII, 292). Объективно это было в русле концепции 'аполлонизма', разработку которой начал незадолго до смерти Анненский.
84-85
Кризис символизма был обусловлен прежде всего тем, что на сцену выходило поколение, которому суждено было осваивать принципиально иной жизненный опыт, не выразимый на символистском языке. В 10-е годы этот опыт не мог получить адекватного теоретического оформления - и потому, что только начинался, и потому, что богатством идей ни акмеисты, ни футуристы не могли соперничать с символистами. Новая поэзия стремилась выразить новую психологию, и лирика Анненского стала для нее намного актуальнее символистских теорий.
88
Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;И, если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь - трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.
Это - внутреннее пространство комнаты, пронизанной солнцем, на фоне властвующей за окном зимы - падающего снега и морозных узоров на стекле. Стихи вполне 'акмеистические' - предметные, логически четкие, лишенные символистской зыбкости и музыкальности.
89
Однако Мандельштам здесь в полной мере пользуется методом 'Анненского - Малларме', создавая четкую метафорическую структуру. Блаженное ощущение тепла в хорошо натопленной комнате рождает аналогию с летом, и складки бирюзовой вуали превращаются в 'быстроживущих стрекоз'. Интерьер стремится разомкнуться и стать 'пейзажем', 'второй природой'. <...>
В процитированном стихотворении хорошо видно, как в результате неожиданных ассоциативных ходов возникают не мотивированные внешне стрекозы. Так рождается конструктивная параллель: там - в ледяных узорах замерзшего окна 'струится вечности мороз', здесь - в складках бирюзовой ткани рождается лето.
92
Акмеисты и, в частности, Мандельштам, не могли не развивать главное достижение символизма - принципы ассоциативно раскрепощенного слова. Как только Вячеслав Иванов выступил против лирического метода 'Анненского - Малларме', он попытался помешать органическому процессу. Акмеисты оказывались новаторами там, где решительно перестраивали философско-художественные основания метафоры как главного орудия поэзии. И в этой перестройке они пользовались символистскими идеями, несмотря на свою полемику с ними.
134
'Tristia' открывалась той же темой безумной Федры, но разработка ее заметно изменилась по сравнению с 'Камнем':
'Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!'
Это - прямо процитированный монолог расиновской героини, который перебивается мрачными пророчествами античного хора:
- Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда.
Таким образом, внутри классицистической драмы оживала драма античная, еврипидовская. Мерные александрийские стихи перебивались экстатическими репликами:
- Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня, -
и хор в растерянности отступал перед живым воплощением любовного неистовства:
- Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
В стихах о Федре узнается метафора пламени, уничтожающего 'сухую жизнь', только пламя здесь становится 'черным'. Так возникала метафора 'черного солнца':
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.
135
<...>
Стихи о Федре и Ипполите перекликаются со статьей Иннокентия Анненского 'Трагедия Ипполита и Федры', безусловно, Мандельштаму знакомой: она вошла в первый том 'Театра Еврипида' (1908*). Анненский истолковывал еврипидовскую драму как коллизию, в которой человек становится жертвой страсти, не подвергшейся этической переработке и не оставляющей никакой возможности освободиться от 'уз пола'. По его мысли, такая возможность появилась лишь на почве христианства, и Еврипид, в сущности, уже подвел своих страдающих героев к этой черте, но именно в этот момент их настигает гибель (КО, 386-396).
* 1906 г.
Мандельштамовская Федра, в сущности, больна тем же. С одной стороны, она охвачена оргиастическим, античным безумием, полностью находясь во власти 'пола', с другой - сознает греховную пагубность этих 'уз':
Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала!
159
Истолкование черного солнца мандельштамоведами дает в итоге картину чрезвычайно и неправдоподобно пеструю: ночной Аполлон и славянский Чернобог; черное солнце Апокалипсиса и затмение солнца в 'Слове о полку Игореве'; миниатюры 'Христианской топографии' Косьмы Индикоплова и дюреровская 'Меланхолия'; Талмуд и поэзия Жерара де Нерваля; 'черное пламя' Федры во французском оригинале трагедии Расина и черный огонь страсти у Иннокентия Анненского. Словом, как подытожено комментаторами американского собрания сочинений Мандельштама, 'количество примеров может быть увеличено до бесконечности'28.
Однако как бы ни определять генезис черного солнца, этот символ означал для поэта прежде всего смертельный кризис христианской культуры - ее пышные и опасные 'похороны'. Черное солнце есть как бы вторжение ночи в день, или, говоря словами Вячеслава Иванова, кризис не столько 'явления', сколько самой яви.
171-172
'Нищенствующей' филологии Розанова Мандельштам противопоставил 'героическую' филологию Анненского, стихи и трагедии которого 'можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь [...] навстречу хазарской ночи' (СС-IV, 1, 225).
176
'Декабрист' - стихотворение о тупике и 'путанице' европейски ориентированной русской мысли:
Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
'Россия, Лета, Лорелея' - еще один ряд блаженных слов, которым предстоит выучиться. Лета для человека, потерпевшего жизненную катастрофу, - символ спасительного беспамятства, тот пушкинский 'холодный ключ забвенья', который 'слаще всех жар сердца утолит'. У Мандельштама это слово дано в контексте, близком Анненскому:
177
О, дайте вечность мне, - и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.
Можно сказать, что мандельштамовская Лета и есть 'равнодушие к обидам и годам', в чем, собственно, и заключается 'сладость' повторения этого слова.
213
<'Возьми на радость из моих ладоней...'> с его загадочными пчелами Персефоны; мифологический подтекст этого мотива обстоятельно прокомментировал К.Тарановский84. Попробуем присмотреться к мандельштамовским пчелам еще раз:
Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина - дремучий лес Тайгета,
Их пища - время, медуница, мята.Возьми ж на радость дикий мой подарок -
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.
Пчела, назначение которой собирать мед, уподоблена поцелую - одному из самых 'сладостных' и самых кратковременных моментов любви. Поцелуй 'умирает', как пчела после укуса, и, таким образом, сладость 'умершего' поцелуя таит в себе 'яд'. Это отсылает к античному пониманию любви, о котором Мандельштам мог узнать из строк Анненского, переведшего соответствующее место из Еврипида так: 'О, страшная сила и сладость! Пчела с ее медом и ядом!'85
Пчелы-поцелуи, умирая во времени, оказываются в ахронном пространстве 'прозрачной ночи', греческом Аиде, мире теней, а собранный ими 'мед' есть не что иное, как символ солнца. Пчела выступает как символ связи между временем и вечностью, но такова же и функция поэтического слова, собирающего 'мед' мгновения, чтобы претворить его в 'вечность'. Поэтому 'сухое ожерелье' из 'мертвых пчел' - метафора акта творчества, оставляющего после себя нанизанные в определенном порядке слова, превращающие 'мед' в 'солнце', дающие мгновению статус вечности.
216
Важнейшая деталь ее облика < уходящей женщины в стихотворении 'За то, что я руки твои не сумел удержать...'> - 'соленые губы' - связана с морем, а присутствие 'ахейских мужей', строящих троянского коня и готовящихся к штурму, ясно говорит о том, что она- Елена, первопричина троянской войны, героиня гомеровского мифа, который, как сказал Мандельштам в 1915 году, 'движется любовью'. Здесь уместно вспомнить замечание Анненского о том, что Елена в античном сознании отождествлялась с 'силой самой судьбы'88.
<...>
В пятой, кульминационной строфе Мандельштам резко усилил мотив сухости и деревянности:
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.
217
Так вновь возвращается мотив непроходимо-дремучего, сухого пространства. Штурм города, как и его защита, не достигают цели. Елена утрачена навсегда - и вместе с нею развеивается ахронное пространство мифа. Впоследствии осознание этой потери будет повторено Мандельштамом в сниженно-гротескном и абсолютно неутешительном варианте:
Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне - соленой пеной
По губам.
По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
Соленая пена на губах гомеровской героини обернется издевательским 'мазком' по губам - осязательным чувством пустоты. Это напоминает версию мифа о Елене, принадлежащую Стесихору, согласно которому Парис увез в Трою лишь ее призрак, а причиной войны стала не реальная женщина, но морок и тень. Трактовка образа Елены как исчезающего призрака могла быть известна Мандельштаму и по статье И. Анненского 'Елена и ее маски', где излагалась версия Стесихора.
Здесь не исключена и реминисценция из его же статьи 'Ион и Аполлонид', где истолковывался образ Елены из гетевского 'Фауста'. Анненский писал, что Гете изобразил мистический брак Елены и Фауста как символ соединения античного искусства и европейской поэзии, что должно привести к возникновению творчества нового типа. Так что стрелы, которые сыплются 'сухим деревянным дождем', видимо, отсылают к тому месту, где Анненский цитирует фаустовское сравнение красоты Елены с разящими стрелами: '...Стрела... еще стрела... и тучи стрел, и все в меня. И воздух их жужжаньем крылатым полн...'89. 'Туча стрел' у Мандельштама трансформировалась в 'деревянный дождь' по семантической смежности 'туча' - 'дождь'.
241
<'Умывался ночью на дворе...'>
Умывался ночью на дворе.
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч - как соль на топоре.
Стынет бочка с полными краями.
'Грубые звезды' дают ассоциацию с солью, а та, в свою очередь, связывается с матовым блеском заточенного топора. Любопытно, что в стихотворении Ахматовой, написанном в предчувствии близкой казни Гумилева, тоже был топор с наведенным на него лучом - только не звездным, а лунным:
Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
Возможно, что в обоих случаях
топор с лучом на лезвии восходит к лирике Анненского, оставившей поэзии
10-20-х
годов целый комплекс вещных ассоциаций и мотивов, в том числе и этот:
Если тошен луч фонарный
На скользоте топора.
Топор у Анненского появлялся в сознании температурящего больного, испытывавшего страх смерти. У Ахматовой он связывается с предчувствием казни, а у Мандельштама становится знаком неотвратимой судьбы - жестоких повелевающих звезд. Позднее в воронежских стихах мотивом топора будет выражена тяжкая, убийственная сила земли: 'И все-таки земля - проруха и обух'.
244
<'Кому зима - арак и пунш
голубоглазый...'>
Тому же, кто выбирал жизнь, оставалась обида:
Кому зима - полынь и горький дым к ночлегу,
Кому - крутая соль торжественных обид.
Обида - слово из словаря Анненского, и говорило оно не только о внутренней уязвленности жизнью, но и о мужестве жить.
419
Ощущение надвигающихся 'чум' и 'боен' с особой силой прозвучало в 'Ариосте':
В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
Несколько загадочные 'руки брадобрея' объясняются легко, если вспомнить статью Иннокентия Анненского о гоголевском 'Носе'. Нос коллежского асессора Ковалева, утверждал Анненский, покинул своего хозяина потому, что тот 'взял прескверную привычку брать его, т.е. Нос [...] в весьма дурно пахнущие руки всякий раз, как он намылял щеки майора' (КО, 8). Дурно пахнущие руки брадобрея - такая же гротескная деталь, что и носачи в треуголках из 'Стихов о русской поэзии'. Источник этой гротескности один и тот же - Гоголь. Речь шла о материализации фантомов, выморочность которых не уменьшает исходящей от них реальной угрозы.
481
<'Дрожжи мира дорогие...'>
В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, -
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом -
И слепой, и поводырь...
Скрещение мотивов 'дождя', 'слепоты' и 'меди' отсылает к похожим смысловым ходам в творчестве Иннокентия Анненского. Это прежде всего уподобление ночного дождика плачущему слепцу, который 'оступается о крышу':
Мне тоскливо. Мне невмочь.
Я шаги слепого слышу:
Надо мною он всю ночь
Оступается о крышу.
А так как у Мандельштама этим слепцом оказывается сам поэт, то вполне естественно вспомнить 'Фамиру-кифареда' Анненского - пьесу, которую Мандельштам рецензировал в 1913 году.
Когда нимфа, мать Фамиры,
просит Зевса сохранить ее сыну, потерпевшему поражение в состязании с
Музой, жизнь,
вслед за ее словами следует ремарка: 'Тучи расходятся - видно, что
где-то вдали идет дождик, блестящий, парной. В одном из просветлевших
облаков вырисовывается абрис улыбающегося Зевсова лица'. Параллель к
этому месту - образ смеющегося 'медного солнца' в 'Трилистнике
огненном', где возникает солнце, грозящее выжечь нежную зелень сада,
омытую только что прошедшим дождем:
Вдруг - точно яркий призыв,
Даль чем-то резко разъялась:
Мягкие тучи пробив,
Медное солнце смеялось.
По сюжету 'Фамиры-кифареда'
Зевс оставляет поэту жизнь, но лишает его зрения. Такова цена улыбки
бога. Так
что медная вода в 'слепых вмятинах' следов на дороге - знак безжалостной
вышней воли.
![]()
![]()
При использовании материалов собрания просьба соблюдать
приличия
© М. А. Выграненко, 2005-2021
Mail: vygranenko@mail.ru;
naumpri@gmail.com